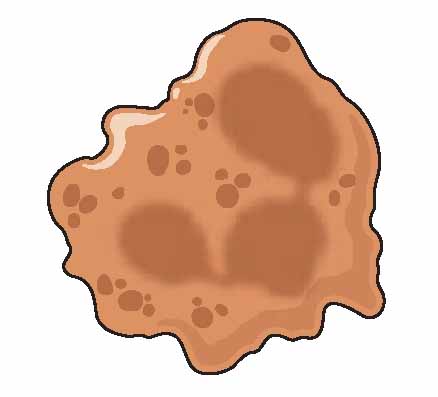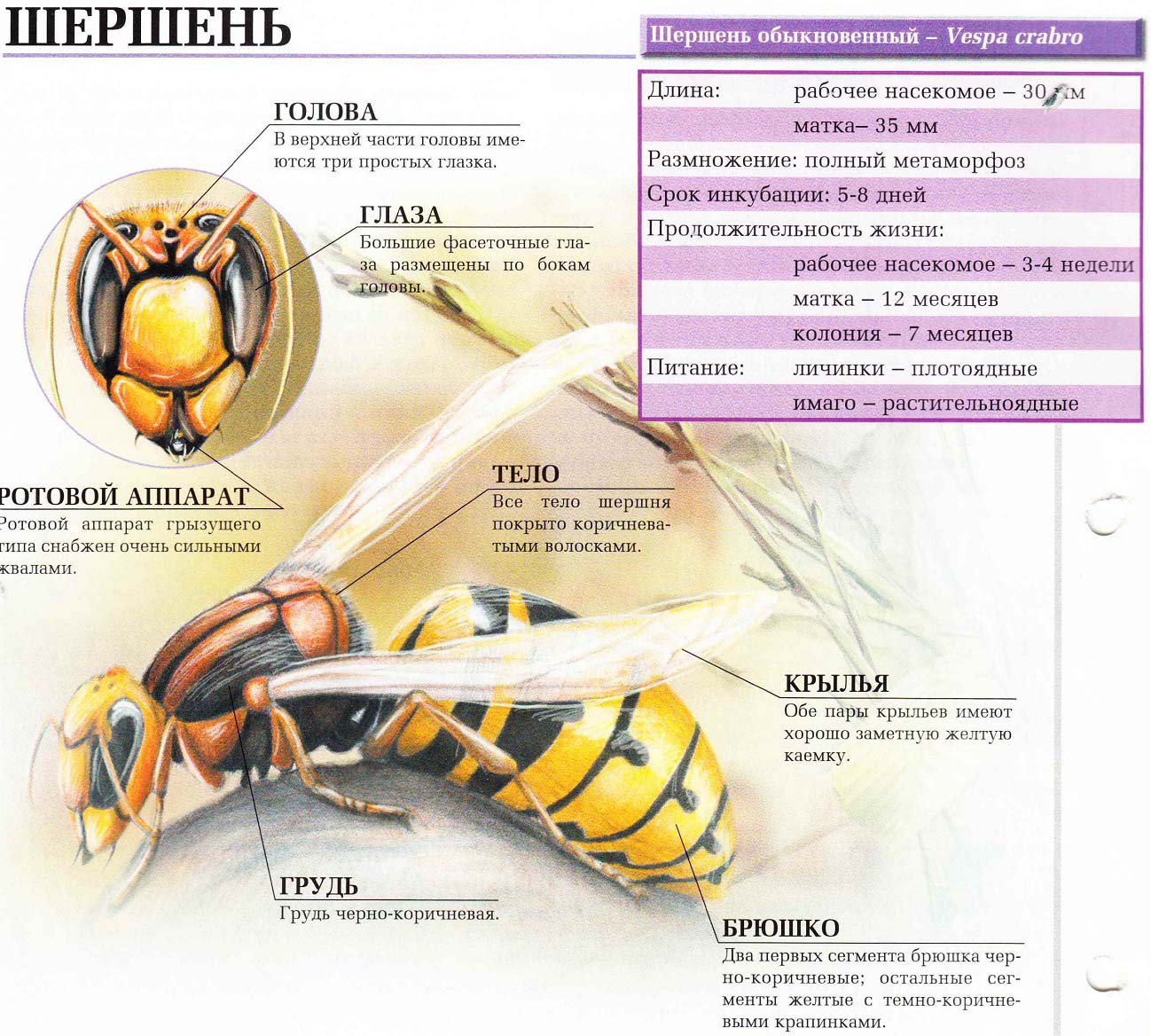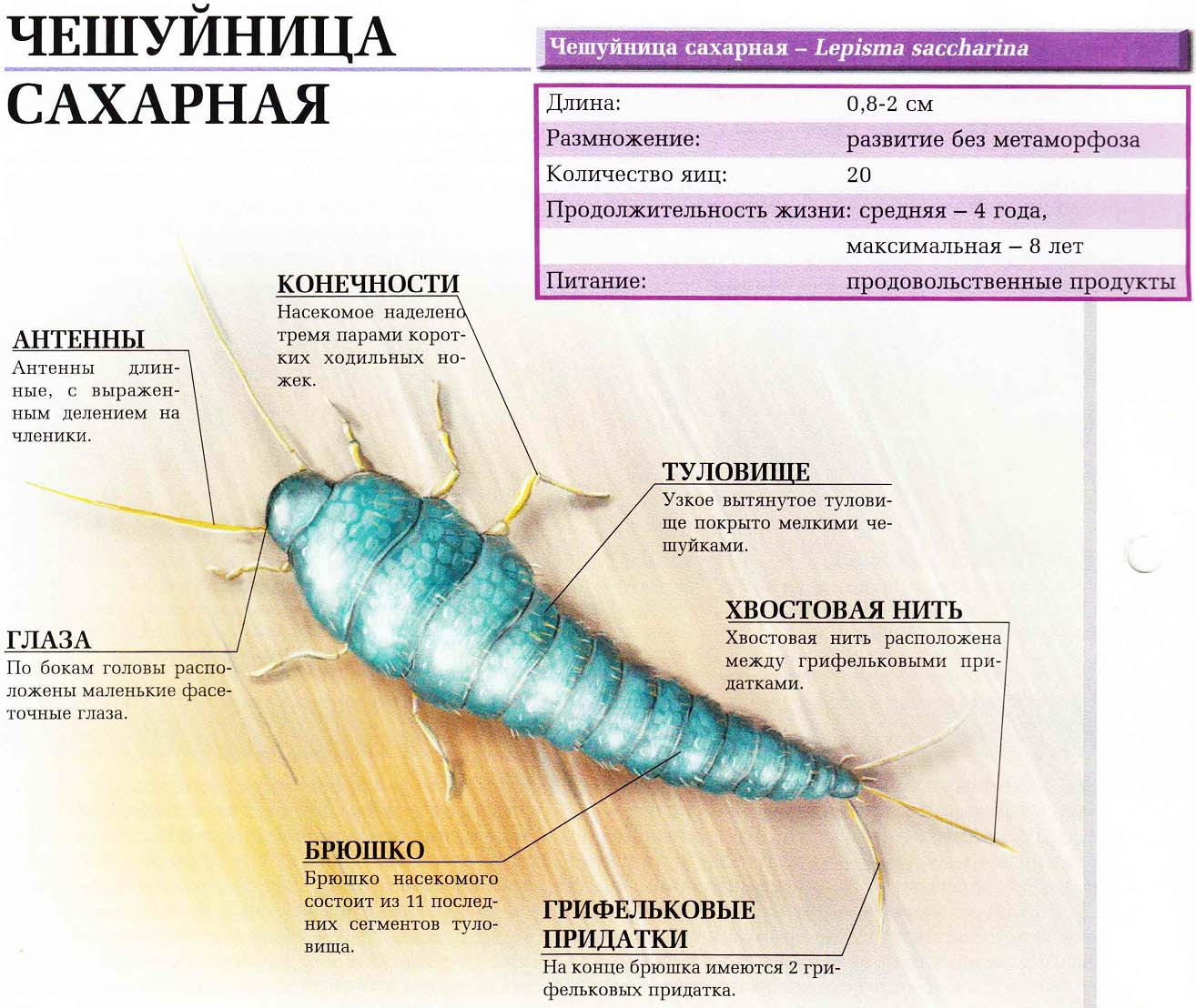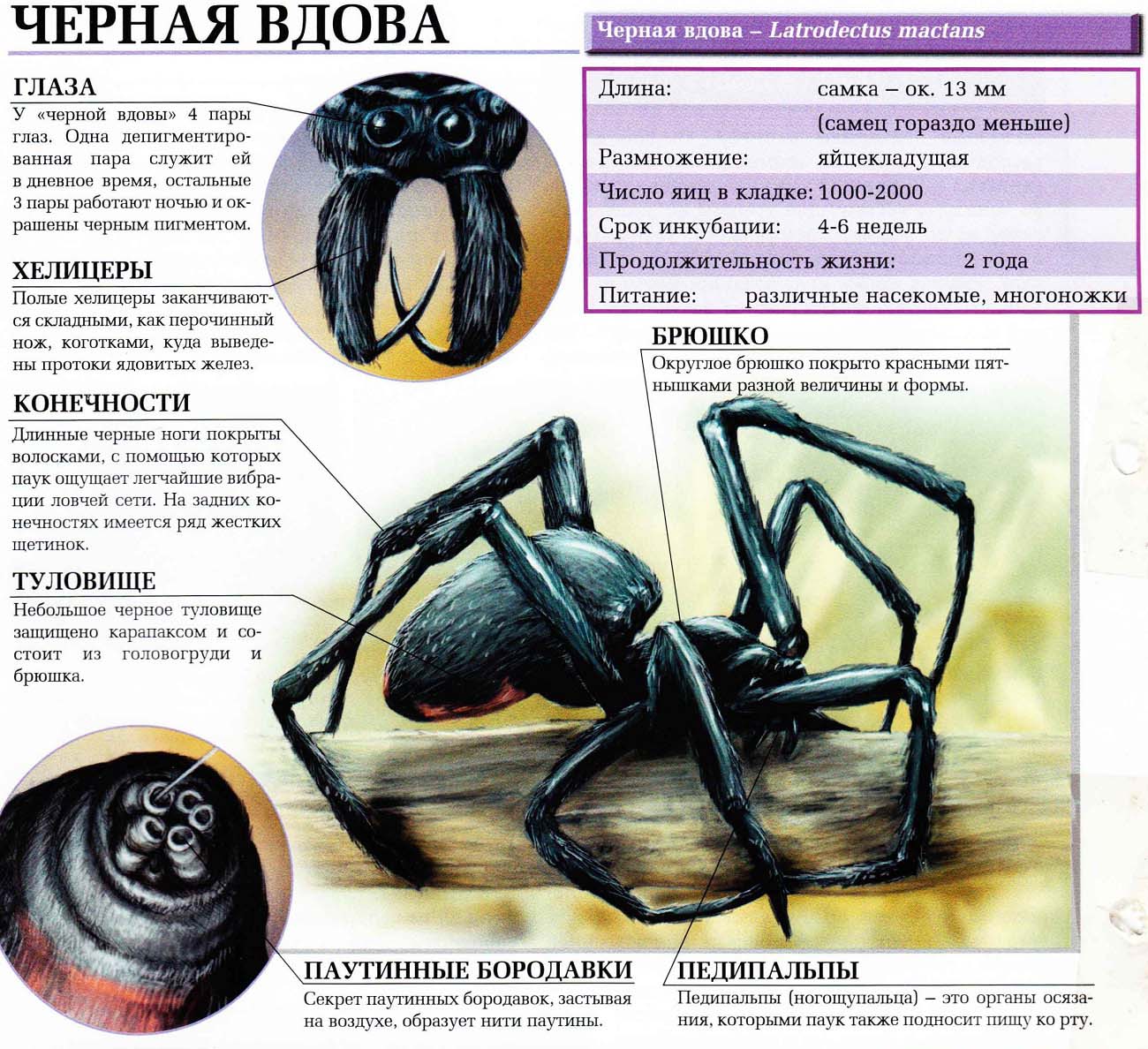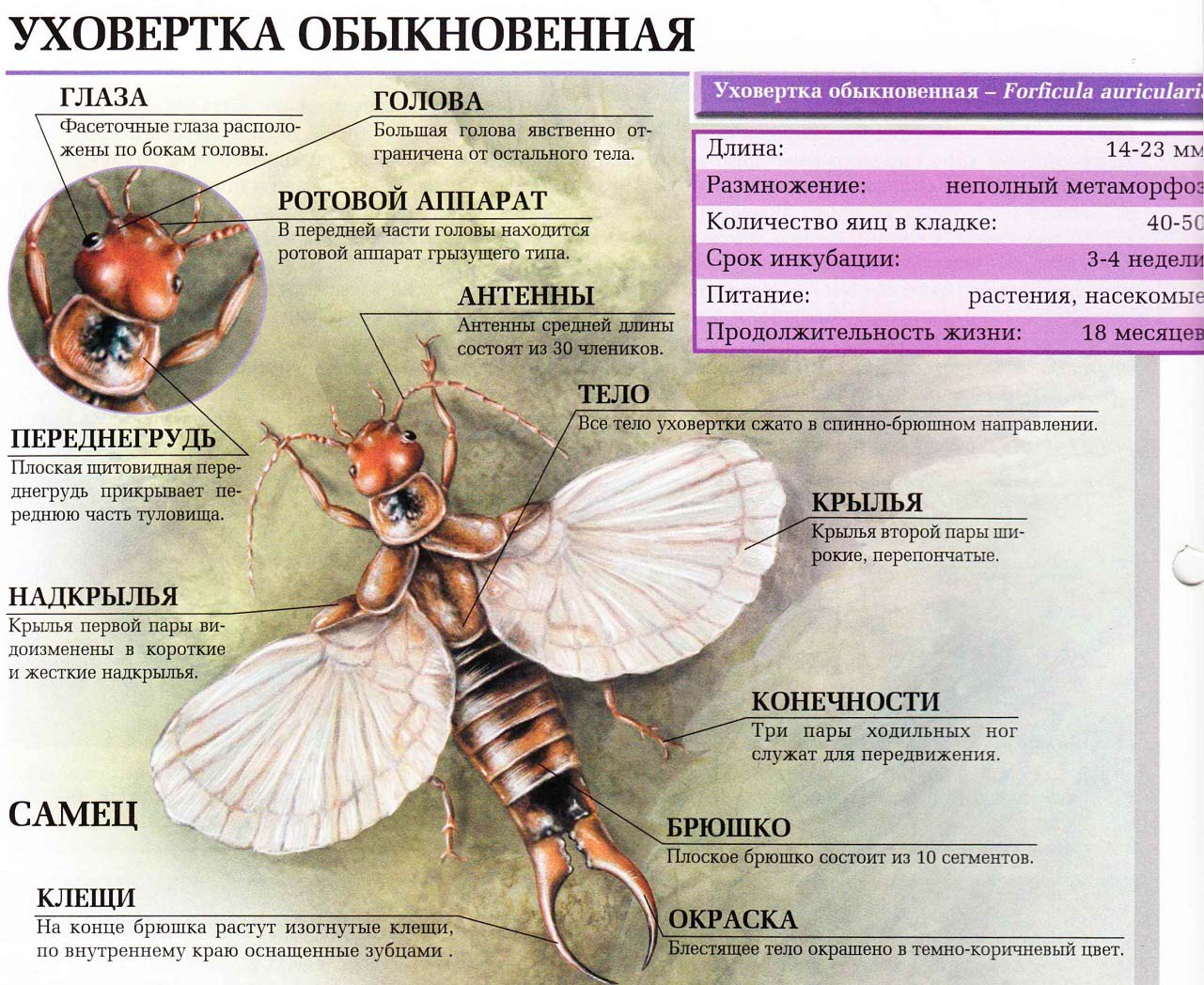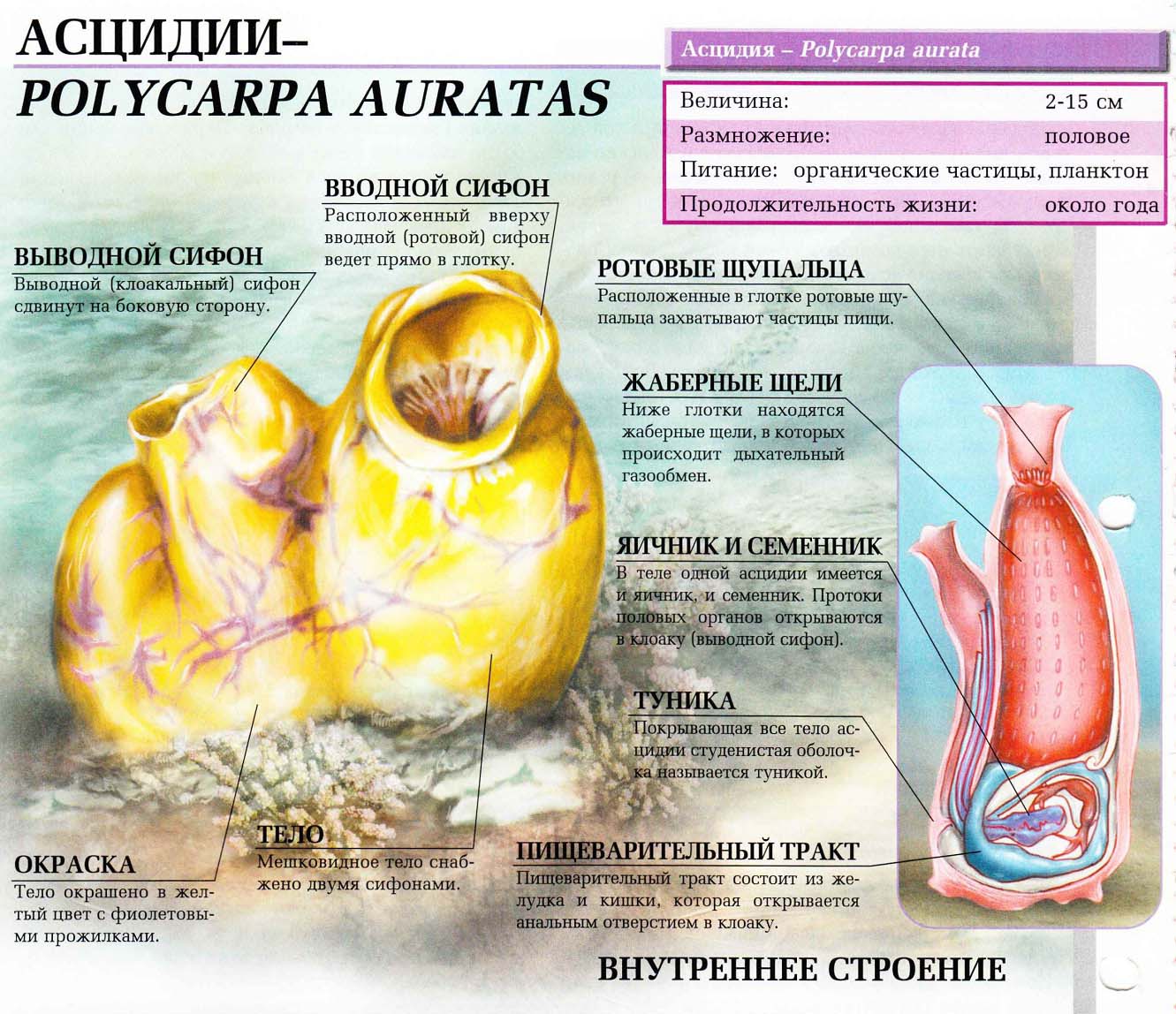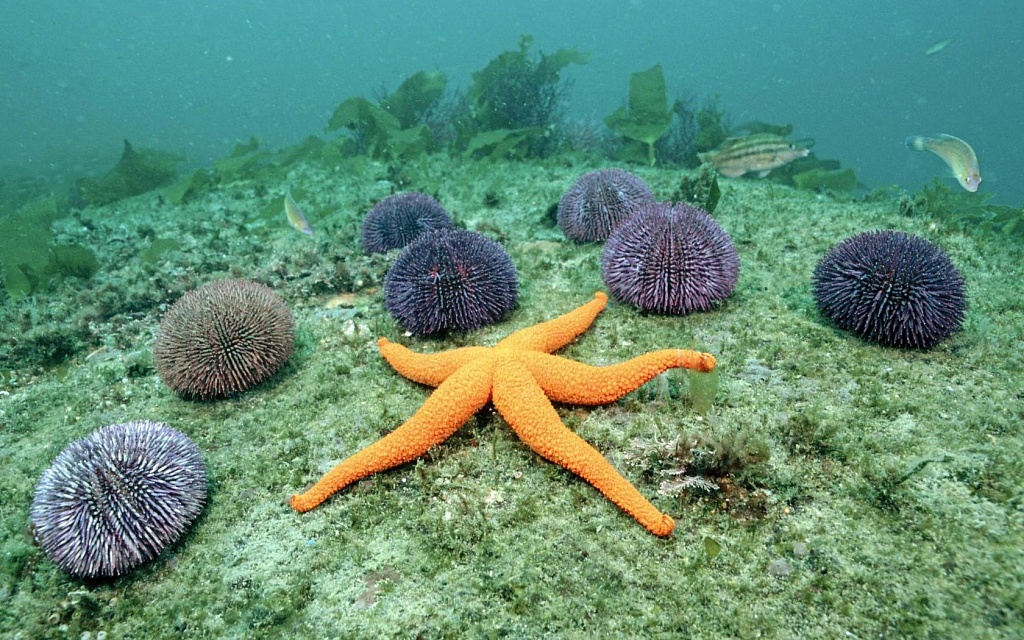Черви экстремофилы в ядовитой серной пещере.
Внутри серной пещеры в Стипбоут-Спрингс, штат Колорадо, воздух насыщен ядовитым сероводородом и содержит смертельные концентрации углекислого газа. Пещера, огороженная простой трехдосочной изгородью, практически не видела гостей. В старых выпусках газеты “Steamboat Pilot” можно найти упоминания редких экспедиций — как, например, в 1930-х годах, когда спелеологи в противогазах могли выдержать внутри лишь по четыре минуты. Или история шестидесятых, когда учёный со снаряжением для подачи кислорода вылезал наружу, бьющийся в конвульсиях, и его пришлось вытаскивать на свежий воздух.

Ядовитая пещера
Но Дэвида Стайнманна это не испугало.
«Самый опасный газ, между прочим, — это тот, что пузырится в содовой», — говорит он с улыбкой. Стайнманн — эколог, консультант и научный сотрудник отдела зоологии Денверского музея природы и науки, а заодно и добровольный пожарный. Так что к враждебным условиям он вполне привычен.
Надеть снаряжение для спуска в такую пещеру — почти то же, что облачиться в дыхательный аппарат перед входом в горящий дом. Был 2007 год, и Колорадское отделение Национального спелеологического общества организовало экспедицию, собрав десяток специалистов, чтобы изучить геологию, биологию, историю и химический состав воды этого удивительного места. Стайнманн пришёл искать новые виды живых существ. Это, можно сказать, его фишка. За свою карьеру он обнаружил уже больше сотни неизвестных ранее организмов. И в тот день, четырнадцать лет назад, серная пещера должна была подарить ему ещё одну находку.
Учёные позволили Стайнманну идти первым, чтобы он успел всё рассмотреть до того, как кто-то случайно сотрёт следы или наступит на что-нибудь важное. Облачённый в автономную дыхательную систему, он протиснулся в узкий вход — размером с гидромассажную ванну и почти вровень с землёй. Внутри было грязно, потом мокро, скользко, неприятно — и в итоге он оказался в 8 метрах под поверхностью, в коридоре длиной около шестидесяти метров. Его любимая обстановка. Он знал: именно в таких местах живут по-настоящему необычные создания.
Продвигаясь вперёд, он заметил колонии микробов, свисающих с потолка. Они выделяли слизеподобную кислоту, способную прожечь рубашку и оставить на коже нечто вроде солнечного ожога — «легкий загар», как он шутливо выражался. Эти организмы зовутся “снотитами” и питаются соединениями серы, которые для нас смертельно ядовиты.
Когда Стайнманн забрался дальше, он наткнулся на источник, собирающийся в два небольших бассейна — каждый примерно с метр в диаметре, наполненный водой, насыщенной сероводородом куда сильнее, чем в морских гидротермальных источниках. А в воде — черви. Десятки тысяч крошечных, красных, извивающихся существ, длиной в пару сантиметров и толщиной с грифель карандаша. Собравшись в плотные группы по сотне особей, они напоминали то ли морские анемоны, то ли слишком крахмаленную вермишель.
«Я в жизни ничего подобного не видел, — вспоминает он. — Это было нечто совершенно из ряда вон. И я подумал: да это же наверняка новый вид!»
И оказался прав: спустя несколько лет анализа он и его коллеги объявили, что эти кроваво-красные создания, ныне носящие имя “Limnodrilus sulphurensis”, — абсолютно новый вид, найденный пока лишь в этой пещере и рядом расположенном горячем источнике.

Черви-экстремофилы Limnodrilus sulphurensis - недавно открытый вид
Но дело не только в новизне. Эти черви могут оказаться весьма полезными. L. sulphurensis принадлежат к классу организмов, известных как экстремофилы — то есть те, кто не просто выживает, а расцветает в условиях, от которых большинство живых существ пришли бы в ужас. Одни любят соль, другие — холод. Некоторые наслаждаются радиоактивностью, металлической средой, кислотой, жарой, засухой или кромешной тьмой. И, как оказалось, многие из них производят вещества, способные сделать нашу уютную, безопасную жизнь ещё комфортнее.
Плоды молчаливой эволюционной работы экстремофилов сегодня можно найти в составе всего — от стирального порошка до лекарств. Особенно перспективны такие вот экзотические черви: считается, что они могут стать источником новых антибиотиков, способных справляться даже с устойчивыми к лекарствам бактериями. Живя бок о бок с колониями микробов, которые им и нужны, и опасны, эти существа, возможно, выработали биохимические механизмы, которые однажды окажутся в таблетках на аптечных полках.
Но чтобы понять, как именно экстремофилы могут нам помочь, нужно сперва их найти, изучить их свойства и научиться воспроизводить условия их жизни в лабораторной или промышленной среде. А ни одна из этих задач не решается быстро или легко. Вот почему, даже спустя четырнадцать лет после открытия L. sulphurensis, исследования их пользы всё ещё продолжаются.
И первый шаг к этому обычно начинается с чего-то скользкого, вонючего и мокрого — с путешествия туда, где человеку вроде как совсем не место. Но именно там, в этих заброшенных уголках планеты, зреют живые идеи. Они таятся во мраке, как и веками прежде.
«Открытий ещё очень много впереди, — говорит Стайнманн. — И вопросов тоже».
Внутри серной пещеры
Стайнманн пригнулся, чтобы зачерпнуть пробы червей и аккуратно извлечь их из среды, которую мы бы посчитали сущим кошмаром. Другой участник экспедиции в это время собирал данные о микробиологии пещеры — о том самом бактериальном бульоне, к которому этим существам пришлось приспособиться и против которого выработать защиту. Неподалёку опытный исследователь глубоких пещер полез в трещину, а вылез — ни с чем, покрасневший, задыхаясь, облепленный слизью.
Сегодня химические вещества, полученные от экстремофилов, входят в состав безлактозного молока, инсектицидов, стиральных порошков, пигментов, биотоплива. Но люди, строго говоря, обращаются к ним за помощью уже тысячи лет.
«О галофилах, например, упоминается в Библии», — говорит Джеймс Кокер, директор Центра биотехнологического образования при Университете Джонса Хопкинса, имея в виду организмы, обожающие соль. Разумеется, древние писцы не называли их по имени — тогда даже слово “бактерия” ещё не существовало. Но, как указывает Кокер, стоит присмотреться к упоминаниям о добыче соли: древние знали, что пора собирать урожай, когда кристаллы начинали краснеть. А это — дело рук микроорганизмов, вырабатывающих пигмент для защиты от солнца.
Некоторые галофилы способны жить в воде, в десять раз более солёной, чем океанская. А другие экстремофилы прекрасно чувствуют себя в не менее удивительных местах — скажем, в охлаждающих бассейнах ядерных реакторов.
«Но для них это, конечно, не экстремальные условия, — объясняет Кокер. — Это их дом. Всё равно что спросить у нас: “Как вы вообще живёте при +24?”»
Тех, кто отправляется на поиски таких созданий, порой называют биоразведчиками. Они колесат по миру в поисках организмов, выживающих на пределе возможного.
«Они ковыряются в земле, берут пробы льда в Антарктиде, пускаются в странные озёра Австралии и Йеллоустоуна, собирают всё, что попадётся, — а потом возвращаются в лаборатории и пытаются понять, нашли ли они нечто новое», — говорит Кокер.
Когда Стайнманн выбрался из серной пещеры, он связался со специалистом по червям из Геологической службы США. Тот собрал международную команду для того, чтобы идентифицировать и описать этих безглазых, багровых «макарон». Исследователи представляли шесть университетов — от Боулдера (штат Колорадо) до Ростока (Германия): биологи, зоологи, молекулярные физиологи, геологи, червеведы.
Стайнманн и его коллеги из Колорадо ещё трижды возвращались в пещеру, чтобы собрать новые образцы и провести экологические исследования.
После экспедиции 2009 года Стайнманн упаковал червей, законсервированных в этиловом спирте, и отправил их в Европу для анализа ДНК. Он также отправил живых особей в контейнере с аэрацией — в воде из пещеры с добавлением водорослей. Червям пришлась по душе новая обстановка.
«Это вам не сумасшедшая пещера, — говорит он. — Здесь у них аквариум с кислородом и едой. Лёгкая жизнь.»
В тех тёмных и холодных местах с питанием, надо сказать, туго, объясняет Стайнманн, сидя в фудкорте в Колорадо, окружённый изобилием калорий. В пещерах, врезанных в горы к западу от него, большинство организмов выживают за счёт продуктов жизнедеятельности более крупных зверей — древесных крыс, сурков, туристов, — которые случайно забредают под землю. Или же питаются остатками случайного бревна, провалившегося в расщелину. Эти отходы могут накапливаться слоями по полметра толщиной, как настоящие геологические пласты — застывшие во времени и пространстве.
Когда-то Стайнманн и сам не особо интересовался пещерами. Но однажды, в 1990-х, в Колорадо прошёл съезд спелеологов, и туда приехал биолог Дэвид Хаббард, который исследовал подземные системы по всему штату.
«Он за неделю нашёл с десяток новых видов», — вспоминает Стайнманн.
На тот момент он работал гидробиологом — собирал и анализировал беспозвоночных и водных насекомых. Управляя собственной компанией Professional Wetlands Consulting, он выполнял заказы для Лесной службы США, гольф-клубов, лыжных курортов, строительных компаний и даже школьных округов. Всем им нужны были карты водно-болотных угодий, экологическая экспертиза и инвентаризация видов, чтобы оценить воздействие на местную природу.
Ползать по пещерам было для него просто увлечением, в которое он погрузился ещё в старших классах. Но как-то, словно камнепад, на него обрушилась идея: а что, если совместить работу и хобби?
«Я просто начал искать жизнь», — говорит он. Теперь, как научный сотрудник Денверского музея природы и науки, Стайнманн открыл десятки ранее неизвестных организмов, скрывающихся под землёй Колорадо. Он — настоящий мастер открытия, но сам не занимается глубокими лабораторными исследованиями потенциальных применений. Он скорее наблюдатель мира биологии, чем биоразведчик.
На другом конце света, в Швеции, исследователь Кристер Эрсеус из Гётеборгского университета взял на себя генетический анализ червей L. sulphurensis. Команда изучала их сосудистую систему, способную эффективно усваивать скудный кислород. Их «кровь» обладала высоким сродством к кислороду.
«Я всё шучу, что некоторые спортсмены были бы не прочь обзавестись кровью червя», — говорит Стайнманн.
Но сами черви — тонкие, как кружево, и длинные, так что добыть из них хоть каплю — задача не из лёгких.
Новости из мира червей
Через месяц пришли результаты анализа ДНК. Черви оказались чем-то совершенно новым — ничего подобного науке прежде не встречалось. Но даже имея на руках генетическое подтверждение, собрать достаточно данных, чтобы официально объявить и описать новый вид, — дело долгое и хлопотное. Исследовательской группе, параллельно занятой другими проектами, понадобилось девять лет, чтобы определить таксономическое место существа и опубликовать статьи в Zootaxa и Hydrobiologia, где были изложены анатомические особенности червя, его происхождение и — как бы помягче — весьма непритягательное место обитания в Стивбоут-Спрингс.
Вскоре после публикации, в 2016 году, Стайнманн связался с французским учёным по имени Орели Тасиемски, специалисткой по антимикробному потенциалу червей из экстремальных условий.
L. sulphurensis не был похож на тех созданий, с которыми Тасиемски обычно имела дело. Биолог и доцент Центра инфекций и иммунитета при Институте Пастера в Лилле (север Франции), она в основном занимается мелкими червями из морских глубин. Но американский представитель запал ей в голову — всё из-за своего сернистого жилья.
«Из моего опыта, черви, обитающие в столь экстремальных условиях, — это интереснейшие источники новых антибиотиков», — говорит Тасиемски, которая стала первым учёным, занявшимся антимикробными свойствами экзотических червей. Её первая работа по антибиотической силе обыкновенных пиявок вышла ещё в 2004 году, а первая статья о «морском чудике» — в 2014-м.
Стайнманн предложил отправить ей L. sulphurensis для изучения и, возможно, извлечения антимикробных пептидов — соединений из аминокислот, способных бороться с бактериями. Но для этого требовались свежие, живые особи, а значит — новая экспедиция, разрешения от властей Стивбоут-Спрингс, команда, строгие меры безопасности (всё-таки Серная пещера не прощает неосторожности), и успешная доставка червей в Европу.
Учитывая основную работу Стайнманна, другие спелеологические вылазки и пандемию, подготовка нового сбора затянулась. Но в 2022 году он всё же планировал отправить партию червей за океан.
Когда черви прибудут, Тасиемски будет точно знать, что с ними делать. Свою карьеру она начала с изучения необычных червей ещё в начале 2000-х — с пиявок, а затем переключилась на обитателей гидротермальных источников в океанах.
«Меня всегда привлекала биология нестандартных организмов, — говорит она. — Наверное, потому, что о них никто особо не заботится».
Она питает слабость к морским «аутсайдерам» и хотела понять, как им удаётся адаптироваться к жизни в столь безумных физических условиях, как она их называет.
Ответ — в симбиозе. Как показали её исследования, опубликованные впервые в 2014 году, черви умеют сосуществовать с полезными бактериями, аналогично нашему микробиому, и при этом активно уничтожать вредные. У них имеется специфический иммунитет, способный вырабатывать пептиды, действующие исключительно против «плохих парней».
Такие соединения (кстати, присутствующие и у людей) она обнаружила у Alvinella pompejana, или червя Помпейского — обитателя горячих подводных источников. Эти пептиды могли бы стать мощным оружием против особенно опасных патогенов.
После двух морских экспедиций к Восточно-Тихоокеанскому поднятию — границе тектонических плит — в 2010 и 2012 годах ей понадобилось три месяца, чтобы извлечь и очистить эти пептиды. Обе идеи она тут же запатентовала.
С тех пор Тасиемски и её коллеги, в том числе бывший аспирант Ренато Бруно, не раз спускались в океан в поисках новых образцов.
«Проблема в том, что ради тысячи червей приходится неделями собирать пробы», — говорит Бруно.
Собрав животных, их тут же замораживают на борту судна и держат в холоде до возвращения в лабораторию. (Некоторые биоразведчики предпочитают привозить живых существ и выращивать их у себя, наблюдая за тем, какие соединения они производят в реальном времени.)
Команда Тасиемски вручную сортирует червей от морского песка, размер которого порой ничем не отличается от самих созданий. Отделённых особей затем измельчают в пасту — Тасиемски сопровождает рассказ жестом, будто толчёт травы в ступке.
В этой пасте содержится всё, на что способен организм, но интерес представляют только антимикробные пептиды. К счастью, они — компактные молекулы определённой формы. Для их выделения используется специальный лабораторный прибор — высокоэффективный жидкостной хроматограф. Он анализирует состав, отделяя каждую молекулу с хирургической точностью. Исследователи смешивают образец с жидким растворителем, который прокачивается через пористый материал. Этот материал, словно высокотехнологичное сито, по-разному захватывает частицы разного размера и состава.
Очищенные пептиды затем помещают в чашки Петри, полные бактерий. Если через день-два на чашке появляется мутный бактериальный ореол, а в центре — чистый круг, это значит, что вещество сработало: пептид уничтожил всё живое в зоне своего действия.
Черви, пептиды и большие надежды.
В лаборатории Тасиемски изучают строение и бактериоубийственные свойства самых перспективных пептидов. Это позволяет понять, какие именно молекулярные комбинации позволяют сохранять антимикробную активность в условиях соли, кислоты, жары, холода и высокого давления.
«Мы обнаружили связь между структурой молекулы и окружающей средой, в которой обитает червь», — объясняет Бруно.
Некоторые формы были специально "сконструированы" эволюцией для работы в строго определённых условиях — и все эти адаптации, возможно, когда-нибудь помогут и человеку стать устойчивее.
Антимикробные пептиды особенно эффективно справляются с так называемыми патогенами группы ESKAPE — шестёркой супервирулентных и устойчивых к антибиотикам микробов. Учёные знают об антимикробных пептидах природы и их роли в иммунитете человека ещё с начала 1980-х годов, и с тех пор открыли более трёх тысяч подобных соединений. Но из всех этих пептидов лишь несколько десятков были получены от червей.
Черви же — особенно интересный источник, потому что живут они в местах, где, по сути, никогда не сталкиваются с бактериями, опасными для человека. А значит, их защитные свойства — в новинку нашим микробам.
«Бактерия просто не знает, как от этого увернуться», — говорит Тасиемски.
К тому же пептиды червей, вырабатываемые чаще всего кожей, устойчивы к экстремальным температурам внешней среды. Им не нужна сверхглубокая заморозка, как многим медицинским препаратам.
«Их можно просто держать на столе», — усмехается она.
Это значит, что будущие антибиотики не будут терять силу от температуры человеческого тела при жаре, как случается с некоторыми лекарствами.
Когда лаборатория Тасиемски выделяет и описывает нужные пептиды, выращивать новых червей уже не требуется. Их можно синтезировать искусственно.
Сейчас Тасиемски тестирует запатентованные соединения на мышах — этот этап займёт около двух лет. Если пептиды хорошо себя покажут в мышином организме, испытания перейдут на людей. Этим займётся уже кто-то другой — и только в случае успеха подключатся фармацевтические компании, которые помогут и с тестами, и с массовым производством.
«Пока нам не нужно сотрудничать с какой-то крупной фирмой», — говорит Тасиемски. — «Но скоро — понадобится».
Учёная надеется, что червь из серной пещеры Стивбоут-Спрингс тоже даст интересные результаты. Но, как она признаётся, сильнее всего её привлекает сам момент открытия.
«Вау, я первая, кто их увидел», — вспоминает она свои мысли при встрече с неизвестными ранее гидротермальными источниками в Тихом океане.
Было по-настоящему странно — плавать в темноте и осознавать, что ни один человек никогда прежде не смотрел на эти места. И ещё страннее было понимать: изучая, как выживают их обитатели, она может помочь выжить нам.
На сегодняшний день FDA одобрило к применению всего семь из более чем трёх тысяч известных антимикробных пептидов — например, тот, что входит в состав известной мази Neosporin. Все эти вещества были получены либо от обычных бактерий, либо являются производными уже изученных соединений, и на переход от открытия к аптеке у них ушло в среднем по пятнадцать лет.

Черви в лаборатории
Многие пептиды были изучены, но не дошли до клинических испытаний: в лабораторных условиях они оказывались менее эффективными, чем в природе; иногда были токсичны для человеческого организма; иногда просто нестабильны.
Само попадание на стадию клиники — уже подвиг. Исследователям вроде Тасиемски необходимо передавать дело тем, у кого есть связи, если не с «Большой фармой», то хотя бы с «малой».
Стайнманны, Тасиемски и те, кто может воплотить их находки в массовое лекарство, — это представители совершенно разных миров. И хотя путь этот долог и тернист, на фоне миллионов лет эволюции экстремофильных существ — это лишь один короткий миг.
Но, по словам учёного из Университета Джонса Хопкинса, Кокера, "капитализм экстремофилов" всё равно случится.
«Это произойдёт. Просто обязано произойти», — говорит он.
Слишком уж много потенциала прячется в источниках и пещерах, слишком много денег можно заработать, чтобы природа оставалась тайной.
Кокер, кстати, уже заглядывает дальше — он размышляет о том, что произойдёт, когда человечество полетит на Марс и станет искать жизнь в условиях, схожих с самыми суровыми уголками Земли.
Стайнманн же предпочитает держаться ближе к дому — и в прямом, и в переносном смысле. Он надеется обнаружить ещё больше существ, вырезавших себе экологические ниши в самых неожиданных местах.
«Многое до сих пор неизвестно прямо здесь, у нас под носом», — говорит он, оглядываясь по фуд-корту. — «Я нашёл новый вид в своей дровяной куче».
Чтобы заметить такие чудеса, надо всего лишь испачкаться и посмотреть внимательнее. Потому что мир, как оказывается, вовсе не такой предсказуемый, каким кажется. В лужах и трещинах прячется потенциал. Жизнь, приспособившаяся к своим собственным условиям, может помочь нам справиться с нашими.
«Мы можем украсть все их секреты», — говорит Стайнманн.
Источник: перевод статьи Sarah Scoles из журнала Popular sciense, весна 2022.
Комментарии:
Нет комментариев :( Вы можете стать первым!
Добавить комментарий:
Зверосайт в соцсетях:




Зверо-Видосы:
"Полли" пишет на странице: Паук сенокосец.
03.09.2025 20:03:41
Интересно, очень и они бегают. Я видела как 2 самца дрались за самку. Победитель спариался. И потом долго не отходил от самки и других не подпускал
"Я верю в то,что они живы" пишет на странице: Стеллерова корова командорских островов.
30.03.2025 02:07:53
"messcer@MAIL.RU" пишет на странице: Восковая моль огнёвка и её разведение.
03.01.2025 00:15:19
Захватили мою кухню. Спасибо за информацию, познавательно.
"Рома" пишет на странице: Белые медведи пробираются по ледникам.
15.10.2024 13:36:06
Нажать "Play" (треугольник)
"медвежонок не забрался" пишет на странице: Белые медведи пробираются по ледникам.
14.10.2024 15:01:09
а как видево запустить?
Последние 11 статей:
- Амурский тигр выслеживает пятнистых оленей.
- Моржонок с мамой плавают в открытом океане.
- Моржи ютятся на тающих льдинах в поисках еды.
- Дикие кабанята сосут молоко у мамы.
- Как спасли очковых медведей.
- Стадо кабанов с детишками гуляют и ищут еду.
- Тюлень попался в пасть белой акулы?
- Пиявки умеют прыгать. Акробатика этих существ вызывает споры уже более ста лет.
- Белая акула сожрала котика за один укус.
- Пятнистые олени в лесу
- Осень на Дальнем Востоке России.